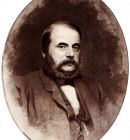В статье «Лучше позже, чем никогда» Гончаров писал: «...если образы типичны, они непременно отражают на себе — крупнее или мельче — и эпоху, в которой живут, оттого они и типичны. То есть на них отражаются, как в зеркале, и явления общественной жизни, и нравы, и быт».
В письме к Достоевскому в 1874 г. Гончаров так объяснял свою позицию: тип «с той поры и становится типом, когда он повторился много раз или много раз был замечен, пригляделся и стал всем знаком».
В данном случае писатель обобщал прежде всего свой собственный опыт, говорил о собственном понимании сложной проблемы типического в литературе. Разумеется, можно принять и такую творческую позицию, но проблема типического все же сложнее и не сводится только к статистической частоте того или иного явления (лица) в жизни, к его «массовидности».
В современной теории литературы принято считать, что тип, или типический характер, — это художественный образ человека, определенной личности, выступающей в ее индивидуальном своеобразии, со всеми присущими ей чертами и свойствами, отражающими существенные признаки какой-то группы людей того или иного класса, сословия, психологического склада и т. д. В лучших произведениях литературы могут быть созданы и так называемые «вечные» образы или типы, которые, отрываясь от своей исторической эпохи, продолжают жить в сознании последующих поколений, изменяясь, наполняясь новым содержанием, подвергаясь модификации, превращаясь даже из имени собственного в имя нарицательное: Гамлет, Дон Кихот, Хлестаков, Обломов...Возникает вопрос: должен ли писатель, создавая тот или иной литературный тип, фиксировать лишь то, что уже отстоялось, утвердилось в жизни (как утверждал Гончаров), или же автор может в известном смысле обгонять эпоху, точнее, обнаруживать в ней то, что только еще зарождается, то, что большинство еще не воспринимает как нечто существенное в развивающейся действительности? Таким был Тургенев, который утверждал: «Наше время требует уловить современность ее преходящих образах; слишком запаздывать нельзя».
Итак, понимание Гончаровым сущности типического в литературе не является единственно возможным. Однако автор «Обломова» сознательно избрал для себя такой путь в искусстве, создал свой мир, в котором он — полный хозяин. Нельзя воспринимать Гончарова по тем эстетическим меркам, которые признавали Тургенев или Достоевский. Гончаров остается Гончаровым.